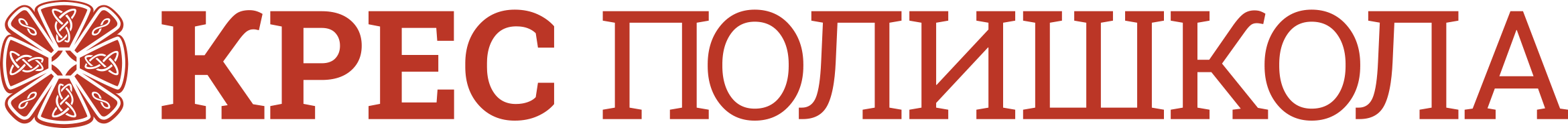Интервью Александра Третецкого, взятое Григорием Амнуэль для журнала «Посев» в 2010 году
— Мы продолжаем обещанное читателю «Посева» знакомство со специалистами юридической системы России. В №6 «Посева» опубликовано интервью с адвокатом Каринной Москаленко. Теперь мы помещаем большое интервью с человеком, который по своей службе стоял по другую сторону судебного процесса. Александр Третецкий — прокурор, и не простой, а военный. 8 мая он стал кавалером «Командорского Креста за заслуги перед Польшей», одного из высших орденов Польши. Указ о его награждении был в числе последних документов, подписанных Президентом Лехом Качинским накануне гибели. Третецкий руководил группой Военной Прокуратуры России по Катынскому делу. Под его руководством в начале 1990-х годов шли раскопки, исследования, которые легли в основу дела, окончательно открывшего правду об этом страшном преступлении середины ХХ века. Поэтому первые слова поздравления. Ну и, логично, первый вопрос. Начнём с дела №159?
— С радостью принимаю предложение дать интервью, особенно после встречи с Маршалом Польского Сейма, исполняющим обязанности Президента Польши Брониславом Комаровским и Президентом России Дмитрием Медведевым. Признаюсь, во мне течёт русская, украинская и польская кровь. Так что для меня сближение между нашими народами, между нашими людьми и между нашими государствами очень важно. Это сближение, на мой взгляд, окажет особое воздействие не только на Европу, но и на весь мир. Многие годы между нами не всегда были отношения, которые должны быть между друзьями, между людьми, которые живут рядом. Когда в 1990 году начиналось следствие, я это хорошо осознавал. После передачи 12 апреля 1990 года Президентом СССР М. Горбачёвым Президенту ПНР В. Ярузельскому первых Катынских документов нужно было начать разбираться в этой страшной истории, развернувшейся в Смоленской, Тверской, и Харьковской областях. Руководство Генеральной Прокуратуры решило, что этим должна заниматься Военная Прокуратура. Так положено по процессуальному закону. Нужно было в одном месте сконцентрировать и создать следственную группу, которая будет заниматься всеми территориями, всем делом. 27 сентября 1990 года все материалы из всех трёх областей пришли в Главную Военную Прокуратуру, и в этот день я принял к своему производству катынское уголовное дело. С этого момента началась работа. Была создана следственная группа, дали возможность подобрать опытных следователей: Яблоков Анатолий, Радевич Степан и другие офицеры Главной Военной Прокуратуры. Были привлечены следователи из следственных частей Смоленской, Тверской, Харьковской областей, а также из Ворошиловградской, где польские военнопленные офицеры содержались в Старо — бельском лагере, и другие необходимые специалисты. Конечно, нам нужно было оперативно работать с польскими коллегами. Без этого работа была бы однобокой, и смысла бы в ней не было. К нам прибыли польские специалисты. Разумеется, помогало и Посольство ПНР, и особенно генеральный консул Михал Журавский. Вместе с прибывшими польскими прокурорами и военными прокурорами: заместителем генерального прокурора ПНР Ставрыло, Стефаном Снежко, Станиславом Пшиемским мы наметили план действий. Договорились сопоставлять расследование дела на территории СССР и материалы из Польши. Нам не надо было друг к другу «принюхиваться», мы сразу поняли, что работать нужно совместно. Все мы понимали, что это за боль, знали, что будут трудности, но чувствовали, что сможем их преодолеть. Разумеется, были привлечены судебно-медицинские эксперты, баллисты, криминалисты, специалисты всех сфер деятельности. Мы профессионалы и понимали, что это нужно. Польская сторона предоставила фотографии местности рядом с посёлком Медное в Тверской области. Съёмки 1942 года, сделанные лётчиками люфтваффе. Территория была лысая, без деревьев, но теперь на том месте стоял лес, а мы из архивных документов знали, что именно в этом месте должны находиться захоронения польских военнослужащих и других, в том числе советских граждан, которые попали под страшную предвоенную молотилку НКВД. Садовники из НКВД засевали ямы с трупами саженцами, таким образом скрывая места преступлений. 15 августа 1991 года начались эксгумационные работы. Мы сразу обнаружили человеческие останки и одежду. Это подтверждало: в теоретических расчётах мы не ошиблись, были на правильном пути. Так же было и в Харькове 25 июля 1991 года. Эксгумационные работы под Харьковом велись в районе Пятихаток, на бывших дачах НКВД. Как и в Катыни, место отдыха изуверов и место работы находились по соседству — преступники заботились об удобстве. Таким образом, уже первые шаги совместной деятельности показали, что мы можем выяснить всё. Разумеется, были трудности, особенно в дни путча ГКЧП, начавшегося 19 августа 1991 года, когда о нашей работе сразу вспомнили и успели озвучить угрозы, но работа пошла. С момента, как дело было принято к производству, оно называлось «Дело № 159».
— У вас очень интересная, необычная фамилия — Третецкий. Мы знаем, что в советское время не всегда было просто людям с необычными фамилиями. Особенно делать служебную карьеру. Не то, что это была какая-то официальная позиция, скорее, некая формула бытовой ситуации. Расскажите подробнее о своём происхождении и о начале своего пути. Что было до того, как наступил 1990 год?
— Я, возможно, не замечал никаких воздействий на меня, или просто не зацикливался на этом. Родился на Дальнем Востоке в Николаевске-на-Амуре, там, где Амур впадает в Охотское море. Почему я там родился? Судьба такая. Моя мама, Кротинова Анастасия Петровна, казачка с Донбасса. Её отец, казацкий есаул, в 1919 году умер от тифа, осталась только одна фотография: дед, георгиевский кавалер, сидит на стуле, бабуля, дети, среди них мама. Отец — Владимир Игнатьевич Третецкий. С его слов, дед — шляхтич, из какого-то серьёзного рода. Когда он женился, невзирая ни на что, на украинке, отец его выгнал из своего поместья. Они скитались, ездили по Бессарабии, по Украине, и остановились в Винницкой области, в селе Ивашкивцы. Дед Игнатий умер во время Первой мировой войны. Брат отца, Третецкий Александр Игнатьевич, останки которого покоятся под Орлом, в деревне Лаврово, старший сержант, командир пулемётного отделения, пошёл воевать в 1942 году. Тогда в СССР был второй этап сложностей, под Харьковом и на Волге были поражения, и призвали сорокалетних. Вот он и пошёл, хотя у него шесть дочек было. В подольском архиве я узнал, что в 1942 году он уже получил медаль «За отвагу», а 2 августа при боях за Орёл погиб. Почему я так подробно говорю об этом, потому что мне, послевоенному мальчишке, было как-то немножко больно, что мой отец не воевал. Тогда мальчишки все радовались, гордились своими родителями, их медалями, орденами. А я гордился мамиными братьями, один из которых, Николай Кротинов, боевой капитан погиб 22 апреля 1945 года, второй, Павел, был водителем у маршала Чуйкова, третий, Андрей, был в штрафных батальонах, но всё же дожил до победы. Родственники жили в Горловке Донецкой области, и мы часто с отцом на велосипеде ездили за 30 км, помогали им, чем могли. Мы жили на Донбассе. Когда в 1920-х годах был призыв на шахты Донбасса, мой отец пошёл туда работать шахтёром. У мамы было четверо детей. Трое в 1930-е годы умерли при Голодоморе, а в 1937 году отца репрессировали. Мать осталась одна, с работы на железной дороге её как члена семьи врага народа уволили. Как-то она перебивалась, а затем началась война. Мама была очень мощной русской женщиной, женщиной-планетой. Она всё выдержала и дождалась отца. Она всегда верила, что он вернётся. Во время войны как ссыльный переселенец он работал специалистом по перегону нефти с Сахалина через Татарский пролив. Несколько раз просился на фронт, но не взяли. Потом было какое-то распоряжение, людям с судимостью убраться оттуда, и родители вернулись на Донбасс.
В школе я занимался авиамоделированием. Тогда это было очень популярно, даже на стадионе «Шахтёр» перед футбольными матчами показывали высший пилотаж по воздушному бою. В 1966 году поступил работать монтёром радиоузла, занял второе место на Украине по авиамодельному спорту и мечтал попасть на военную службу. Сейчас от неё уклоняются, а в то время армия — это было престижно. В ноябре меня призвали. Я, конечно, хотел в авиацию, но повезли на Балтику и отправили в Лиепайскую электромеханическую школу младших военных специалистов. Служба была в радость, хотя условия сложные, но всё нравилось, даже ходил по Комсомольской набережной Даугавы в Риге на парады. Закончил службу в 1969 году главным старшиной и поступил работать на харьковский авиационный завод. Однажды, гуляя по городу, увидел красивое здание в стиле барокко, оно оказалось Харьковским юридическим институтом, и я своим друзьям сказал: будем поступать сюда. Оказалось, поступить совсем не так просто. Обязательно нужна рекомендация обкома партии, или обкома комсомола, или политотдела части.
На авиационном заводе я был сборщиком хвостового оперения Ту-134 и был на хорошем счету, так что рекомендацию мне дали. Закончил институт в 1974 году. По окончании были большие проверки, но отца реабилитировали, — он умер, когда я учился на первом курсе. Потом работал следователем в Запорожье, но меня влекло на военную стезю, ведь я уже был офицером запаса. Попробовал подать рапорт на службу в Военную Прокуратуру, отказали. Не было никого и ничего, что могло помочь. И я снова написал рапорт с обязательством служить 25 лет. В 1975 году стал военным следователем. Мне было легко, так как я отслужил срочную службу, был офицером, и благодарил судьбу и Бога. Большинство сослуживцев были лейтенантами уже в 21 год, а я только в 28. По этому поводу не надо переживать, ждать тяжело, а догонять легко, силу свою чувствуешь — тогда вперёд.
В военкомате воспользовались этим и отправили меня в стройбат, замполитом строительной роты. Невозможно передать, что я там увидел и понял. Нужно было действовать. Написал главному военному прокурору Горному и отправил заказным письмом. Через месяц меня отстажировали в Военной Прокуратуре Днепропетровского гарнизона и я попал в одну из элитных прокуратур страны, ведь Брежнев был днепропетровский. Но вскоре понадобилось для одного молодого мальчика, разумеется, с протекцией, освободить место, и меня направили в Германию служить там в Группе советских войск. Страна у нас большая, офицер должен много где послужить: от Забайкалья до западной границы, а тогда наша военная граница аж за Берлин простиралась. Молодых туда нельзя было направлять, а я был уже достаточно опытным следователем, побыл и военным прокурором Киевского Военного округа, и начальником подвижной криминалистической лаборатории. Так в 1978 году я попал в Военную Прокуратуру 1-й танковой Армии. Штаб стоял в Дрездене, но меня направили в Виттенберг Лютерштадт, в поле.
— Давайте объясним читателю, в чём разница между гражданским прокурором и военным.
— Во-первых, это дисциплина. После института у нас были стажировки в прокуратуре, в милиции, в суде, но мне больше понравилась Военная Прокуратура. Мне вообще нравилась форма, видимо, влияло послевоенное детство. Закон, он, конечно, один, только Военная Прокуратура расследует совершение воинских преступлений, но и других, особых, конечно, тоже. Думаю это более порядочное отношение к делу. Не хочу умалять другие органы, но работал я в милиции и понял — это не моё. В Военной Прокуратуре работают с огромной ответственностью. Ведь за нами и безопасность страны, а не только отдельных граждан.
— В СМИ и обществе часто пишут о проблеме так называемого «телефонного права». Насколько оно влияет или может влиять на работу прокурора?
— Что касается «телефонного права», меня аж передергивает. Когда ты молод, ты ещё не можешь сказать — забирайте дело. Но Господь меня миловал. Конечно, пытались влиять партийные органы. Например, начальник политотдела, когда я служил в ГСВГ, пытался сказать, что не надо судить, особенно по неуставным взаимоотношениям, лучше свести всё к дисциплинарному проступку, но это уголовное преступление! А делалось так для того, чтобы снизить показатели преступности. Пытались на нас воздействовать, всё было продумано. Следователи состояли на партийном учёте в штабе армии, и на уровне дивизии давить на них было сложно. Конечно вопрос деликатный, всё зависит от силы духа, от воли, от знания закона следователем или прокурором. Надо только задуматься, по закону поступаешь или нет. Когда позже, уже в перестройку, я занимался Новочеркасскими событиями, где был расстрел рабочих, мне никто не препятствовал. Были, конечно, незначительные моменты, но я старался не сворачивать с пути правды. Чем вооружён прокурор — руками, ногами, головой, ручкой и знанием закона. Нужно было по всей Ростовской области ездить, а машины не было. То есть, то она сломана, то бензина нет, или другие отговорки. Хотя командирован Главной Военной Прокуратурой, но на месте свои хозяева. А дело нужно делать сейчас, не откладывая. Можно, конечно, составить документ — «не было такого-то», но потом о совести, о душе надо подумать. И пытаешься сам найти выход к правде. В Каменске стоял понтонно-бытовой батальон. Договорился с командиром, он дал мне машину, топливо, обеспечил понятыми, обеспечил сухим пайком. Тогда же очень тяжело с продуктами было, всё по карточкам. Невозможно было купить в Ростове ни чая, ни масла, чтобы просто поесть, такие условия были в центре житницы России. Мы смогли провести проверку и потом, уже по возбуждённому уголовному делу, проехали по местам, где люди были захоронены, провели эксгумационные работы. Всё зависит от оперативности.
Ещё один пример. В 1994 году расследовал дело в отношении лидера ЛДПР Жириновского, по признакам действия двух статей уголовного кодекса: пропаганда войны и разжигание национальной вражды и розни. Основание: книга «Последний бросок на юг» и другие выступления. Несмотря на то, что я был опытным, дело оказалось тяжёлым. Необходимо было провести различные экспертизы: психологическую, социологическую, историческую, военную, и даже военно-терминологическую. Нашёл специалистов в военно-стратегическом Управлении Генерального Штаба, они дали заключение. На основании этого, с учётом экспертиз, с учётом допроса эксперта, было принято решение, что есть элементы пропаганды, но как таковой пропаганды войны нет. Со мной не согласились. Были разные политические моменты. Предложил провести общую экспертизу, поручив её Дипломатической Академии под руководством академика Кудрявцева, со мной не согласились. Предложили написать представление, я отказался, сказал: не могу этого сделать. Но дело прекратили. Я «телефонным правом» не пользовался, ни с кем не связывался. Дали понять, что мне тяжело будет и нужно куда-то уходить. Тогда как раз образовалась новая прокуратура в пограничных войсках в Таджикистане, и там было свободное место, шла война, желающих не было, и я убыл туда.
— Думаю, читатель уже понял, что, всё самое важное, а иногда и самое трагическое, что происходило в истории нашей страны и в близких, пограничных с нами странах, так или иначе связано с именем Александра Третецкого, с его работой. А каковы отношения прокурора и адвоката с точки зрения военного прокурора Александра Третецкого?
— Это вопрос простой. Прокурор и адвокат — два юриста, два специалиста, один может чего-то не увидеть, другой должен заметить. Прокурору, который должен всё видеть, следует понимать, что если чего-то не доделаешь, адвокат увидит. Доделай или имей мужество дело прекратить. Есть такое понятие — закрыть «за недоказанностью», по какому-то эпизоду, в отношении отдельного лица или группы лиц. Если вменяется несколько преступлений, а одно, как говорится, белыми нитками шито, и ты предвидишь, что не пойдёт оно, зачем натягивать? Найди мужество прекратить за недоказанностью или по каким-то другим реабилитирующим основаниям, например, за малозначительностью, если это, конечно, позволяет дело. Полагаю, что отношения адвокат — прокурор должны быть состязательные. Мне пришлось после Академии семь лет работать в Управлении по надзору за судебными постановлениями, рассматриваемыми Верховным Судом РФ. Там участвовали и адвокат, и прокурор, но прокурор не являлся государственным обвинителем, он давал заключение, или, как сейчас говорят, мнение прокурора перед решением, вынесением определения Верховного Суда. Пришлось работать с Генрихом Падвой. Напротив мы сидели, а в кулуарах разговаривали, но в процессе каждый своё мнение высказывал. Ты поддерживаешь своё, а адвокат своё. Отношения должны быть состязательными.
— Хорошо. Пойдём уже по реальной биографии. Начнём с Лиепаи в Латвийской Республике, попробуем протянуть цепочку к ГСВГ. Сегодня Латвия независимое государство, прекратила своё существование ГДР, теперь существует единая Германия. И в Латвии и в Германии можно сегодня, так или иначе, услышать, что советские войска в этих странах некоторыми называются не войсками-освободителями, а войсками-оккупантами. По той причине, что освобождение — это момент достаточно краткосрочный, а если войска задерживаются, то они уже трактуются иным образом. Когда вы служили там, как вас воспринимали? Как вы с позиции сегодняшнего дня смотрите на эти проблемы?
— Меняется время, меняются взгляды. Я прибыл служить в Латвию в 1966 году, совсем ещё юным, мальчишкой. Многого не знал и не понимал, видел всё по-своему. Разные люди были, в том числе и те, кто против советской власти. Но и в Забайкалье такие, особенно среди казаков, были. Всё зависит от того, как человек воспринимал ситуацию. Когда служил в Латвии, не наблюдал такого антисоветизма. Во второй год даже в увольнения ходил, с девушками знакомился. Иногда нас посылали помогать в латышские сёла, они пашут землю, а из неё камни вырастают. Вот мы их и помогали с полей убирать. Бричка с конями едет, а мы, матросы, их укладываем. Без этого на поле ничего не взрастёт, невозможно пахать. Жили по два-три дня среди крестьян, хорошие отношения были. А как иначе, если люди друг другу помогают. А вот как власть это воспринимает, зависит от того, кто как себя поведёт. В ГДР служил следователем. Ездил по всей стране и в Берлин, и в Карлмарксштадт, и в Веймар, и в Сан-Суси, был и в Бухенвальде. Я старался посмотреть страну, общался с людьми. Общался так же и по служебной необходимости. Нам было предписано сношение между военными прокурорами, нашими и гэдээровскими. Но прокурор далеко, а полиция рядом, так что с полицией быстрее надо было решать. Мы настолько контакт наладили, что дела с полицией решали тут же, на месте. Случалось ли ЧП какое — то, всё сразу и решали. Конечно, в ГДР бывали разные случаи, но в целом люди относились к нам хорошо. Я, конечно, не ответил на ваш вопрос. Оккупация это была или не оккупация, не наше дело. Это вопрос политики. Сейчас Германия объединена, но там находятся английские, французские, американские войска, на каком они там основании, меня это не волнует. Советские войска вышли, и я это хорошо помню. Сначала же они так и назывались — оккупационные войска, но это по ушам било. Слово «оккупация» слишком негативное, так что потом просто стали называть ГСВГ. Но всё — таки главный вопрос, это дело политиков. Установка границ в послевоенной Европе была одна, сейчас пришло другое время, и этот вопрос отпадёт. А что касается войн, и 1-й Мировой, и П-й, Отечественной то всё это надо разграничивать. Я не могу про немцев говорить плохое, было соответствующее время, сейчас стало другое время. В советские времена все знали — в Прибалтике или на Кавказе живут лучше, чем в российских населённых пунктах и городах. Это всё бремя политики и истории.
— Дальше у нас другая трагическая страница внутренней истории, долгое время малоизвестная в нашем обществе. Это страшная ситуация, когда войска применялись против своего народа. Я имею в виду расстрел в Новочеркасске. Там были задействованы не только карательные органы, коими советское государство было вполне богато, но и армия. Вы пришли к этому делу в эпоху перестройки. Как вы, с вашим пониманием чести мундира, смотрели на эту ситуацию?
— Когда ещё жил в Донбассе, слышал об этих событиях. Повышение цен на молоко и мясо «по массовому пожеланию трудящихся» привело к трагедии Новочеркасска, хотя ситуация там мало отличалась от других городов страны. 15 августа 1989 года я попал в Управление по надзору за следствием КГБ и реабилитации. Как раз шёл первый Съезд Народных Депутатов, на трибуну выходили Сахаров, Старовойтова, Ландсбергис, Афанасьев и другие. Вся страна неотрывно смотрела телевизор. Явно шло обновление страны. Во время разбора событий в Тбилиси, когда там войска применили против мирных демонстрантов, на трибуну вышел Собчак и сказал: а у нас ведь ещё были такие же события в Новочеркасске! Это вошло в стенограмму, в протокол, и Съезд поручил Генеральной Прокуратуре разобраться. Так, спустя 28 лет, пришло время этого дела. Генеральная Прокуратура начала разбираться кто должен это вести, кому поручить. Хотя, может, думали сначала так: поработаем, получится — не получится, а оно получилось. Из Генеральной Прокуратуры послали материалы в Главную Военную Прокуратуру, в Управление по реабилитации. Почему? Потому что были применены войска. В 1990 году мне поручили заниматься этим делом. Стали поднимать архивы, разбираться. Вначале вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом решили всё же возбудить. Надо было эксгумировать тела, народ просил и требовал. Хотя много времени прошло. Всех эксгумировали и перезахоронили возле Новочеркасского электростроительного завода. Там, где произошла трагедия, начавшаяся 1 июня 1962 года. Новочеркасск был казачий город, там были разные, судимые, репрессированные люди. Многие работали в кузнечном цехе. Утром по радио сообщили о повышении цен. Люди стали волноваться, возмущаться. Ночная смена не ушла с завода, а утренняя к работе не приступила. Началось брожение. Надо было это брожение урегулировать, не сумели это сделать ни высокие, ни низко поставленные руководители. Не мудро они поступили, глупо. В ста метрах от проходной завода главная железнодорожная артерия, по которой ехали люди, сезон отпусков, одни на юг, другие с юга. Все поезда битком. Всё встало и началось противостояние. Командующий Северо-Кавказским Военным округом находился под Краснодаром, проводил плановое учение. Там были его заместитель Шапошников и член Военного совета Геращенко. Вначале всё происходило даже не в самом Новочеркасске, а в заводском поселке Будёновском. Потом перекинулось в город. Горисполком, милиция — все были там. Народ ведь жил очень бедно. В документах всё это зафиксировано. Военным давали пайки, у некоторых были приусадебные участки, но у большинства не было ничего, а тут такое объявление. Нужно было быстро принимать мудрое решение, вместо этого директор завода Курочкин сказал людям: «Ничего, будете есть колбасу ливерную». Нельзя так было народу говорить. Момент истины, а он такое. А до Ростова 36 километров. Приехал первый секретарь обкома партии Басов. Но он астматик, и от волнения даже выступить не мог. Чего, спрашивается, приехал? Он же член Военного совета Северо-Кавказского Военного округа, секретарь обкома партии, и ничего не предпринял, только поднял трубку и сказал: «Войска мне сюда». Это ж вдуматься надо, если сам не мог с народом поговорить, зачем он тогда вообще был нужен? Ведь народ и партия тогда едины были как-то, к чему войска? Всё первое число ничего страшного не происходило, машину милиции только перевернули. Примерно 17 человек задержали и на сутки в милицию отправили. Если бы мудро поступили, ничего бы не произошло. 2 июня народ, видя, что арестованных не освобождают, собрался вместе и пошёл в сторону горкома партии и горисполкома, (они были в одном здании), освобождать своих задержанных сограждан. На второй день уже прибыло руководство страны: Козлов, Микоян, Кириленко. Однако к народу они тоже не пошли, расположились в военной части и толком не знали, что делать. Пригнали войска, чтобы поставить заслон из военнослужащих, но они оказались без патронов. Но там были ещё и конвойные войска МВД. У них психология другая, и вот они — то были уже с полными боекомплектами. Как таковой команды «расстрелять» ни Малиновский, ни Хрущёв не давали. Всё решалось на месте. Но что такое с юридической точки зрения расстрел? Расстрел — это одной очередью по толпе, колонне — посеять такое, что не дай Бог. Когда пытались освободить людей из милиции, у одного конвойника выхватили автомат, второй чиркнул автоматом и 5 человек сразу полегло. Я подчёркиваю количество — 5. Вот эта глупость и привела к бунту. Появились палки. Объяснения позже брались у всех, кто был в толпе. Есть документ, постановление об отказе, там всё детально расписано. Начали стрелять конвойники. 17 человек было убито. Кто убегал, кто на дереве спасался. 17 и 5 — застрелено на площади 22 человека. Плюс во время комендантского часа застрелили ещё двоих людей. Похоронили 23 человека, одного отдали родственникам, у него что-то с ногой было, и он умер от сепсиса. А остальных 23 никак не могли решить, где хоронить. Были предложения бросить в заливе, в Среднюю Азию отвезти. Но начальник ОВД предложил: давай их расхороним по области, и так и сделали. Мы все эти захоронения нашли. Это то количество людей, которые были убиты. Ещё некоторые были расстреляны по суду, но потом реабилитированы. Так что убито было 24 человека, все известны пофамильно, кто и где захоронен. А в народе считали, что 200 человек погибло, и что 300. Нет. Вот эта скрытость, глупость и немудрость и привела к слухам и домыслам. Это величайшее недоумие, глупость руководящих лиц. Член ЦК, Военного совета округа, а не понимает, что такое войска дать. Могло бы этого не произойти? Думаю, могло. «А как бы я действовал?» Не знаю, но если бы я был в той ситуации, старался бы найти адекватный выход.
— Вернёмся к главной причине нашей встречи, к Катынским событиям. Ведь именно вы должны были прежде всего себе ответить на вопрос, кто совершил убийство элиты польского общества, оказавшейся в лагерях интернированных в 1939- 1940 годах, что это было, исполнение долга или преступление? Это было сделано людьми в советской форме. Но её, немного изменённую, носил и сам Александр Третецкий. Её честью он дорожил. Что происходило в душе, в сознании, ведь сначала нужно было самому себе ответить на все эти вопросы, и лишь потом выносить их на суд общества. Причём не только нашего, но и польского.
— Надевай, не надевай галстук или другую одежду, если в тебе заложено внутри дьявольское, низменное, — эти люди часто собираются вместе и творят даже не подлость, это мягкое слово, и не безрассудство, люди, которые сотворили такое в отношении других людей, уже не люди. Такого не должно быть. Человек пленный, он беззащитный, с ним обращайтесь не как хотите, а по закону. Но на каком основании интернировать, и потом уничтожать? Это могли совершить только монстры. Так не должно было быть. Я не могу даже понять, что руководило ими. Говорят о поражении под Варшавой, или ещё о чём-то подобном. Но разве это может что-то оправдать? Даже если это месть, она вне закона. Нет у меня слов, вы вопрос задали, а меня аж всего трясёт на протяжении этих многих лет. Как могло такое быть. Я понимаю, если бы состоялась битва… Ведь их обманывали… их обманывали… их обманывали… я же прошёл по пути с озера Селигер, где они содержались, по тому же льду, в апреле месяце. В 1991 году прошёл всё это, осознал и прочувствовал. Они ведь верили, что их куда-то везут. В эксгумированных трупах, когда проводились вскрытия, даже каша гречневая была не переварена. Их даже покормили перед… нет, всё это было изуверски заранее запланировано. Это не из кинофильма Вайды, я и до сам всё понимал. 15 августа 1991 года, в ночь мы приехали под Харьков, мне не спалось. Огромная ответственность, это не передать. Встал утром, ещё не рассветало, и смотрю на лес, где мы утром должны начать эксгумацию, и вижу – полки идут. Галлюцинация. Настолько я был поглощён всей этой работой, что видение мне было. Потом некоторые люди говорили: ты не советский офицер. Паном Станиславом написано хорошо, кто как следил и за кем… Не знаю, какая сила владела мной. Позже я понял, есть одна божественная сила, просто каждый к ней идёт. Эта сила давала мне возможность быть крепким и ничего не бояться. Станислав Савицкий говорил — не бойся! Вперёд! Выполняй свой долг, пока тебе поручено. Есть такое даже в Махабхарате: «Выполняй свой долг, пока есть время, однажды время уйдёт, и бесполезно будет раскаиваться». Я находил в себе мужество. Хотите, заберите у меня это дело, раз вы в силах меня уничтожить, но пока я расследую, я буду расследовать так, как требует закон, и ничью волю выполнять не буду. Однажды вечером вызвал руководитель Тверского КГБ тогда, ещё Калининского, сказал: «Прекращайте своё гробокопание, мы вам не гарантируем личную безопасность». Это, правда, во время путча было. Вызвали с места раскопок, требовали прекратить позорить Родину. Но я патриот своего отечества. Может именно этим и патриот, что вот так поступал. Хочу, чтобы наша Родина была красивой, и не стыдно, чтобы за неё было ни перед кем. Если те монстры, которые правили этой страной, виноваты, нужно всем об этом рассказать. Нужно навести сердечные мосты, и это нужно делать в противовес зацикленным негодяям. Нам слишком долго пришлось больно и тяжело жить в крови. Кто-то должен победить зло, оно должно было быть уничтожено. А раздел Польши, когда страна оказалась без всего… Нет страны, где она? Надо уметь жить вместе, рядом, и говорить как сосед с соседом, а не говорить, — это метр твоей земли, а этот метр моей — и драться из-за этой межи.
— Общее количество людей, погибших по Катынскому делу, примерно 22 500. Сколько, с вашей точки зрения, участвовало в уничтожении этих людей?
— Назвать количество трудно, но нужно опираться на документы, они какую-то отправку дают. Это уже и не секрет, и тогда был не секрет, мы ведь передавали польской стороне сначала часть материалов уголовного дела. Когда мы вместе с Анатолием Яблоковым допросили Токарева, бывшего начальника НКВД по Калининской области, и задали вопрос: «Вы лично принимали участие в расстреле?», считаю, что он искренне ответил: «Лично не принимал, но своим подчинённым давал команду». Он сказал: «Если вы найдёте благодарственный приказ наркома внутренних дел, то моей фамилии там нет». Существует благодарственный приказ, за выполнение особого задания, фамилии Токарева в получении сребреника вы там не найдёте. Есть общий приказ о поощрении. Запросили, и нам его дали. Центральный аппарат КГБ дал. За подписью комиссара безопасности Берии о награждении денежной премией 123-х человек. Это всё по Катыни, но там же не все фамилии и мы пытались найти и допросить. Вместе работали с заместителем генерального прокурора Польши Стефаном Снежко. Когда мы нашли этот приказ, проверили, только один остался — Сыромятников. Он уже был практически слепой, но дал показания. Изворачивался, всё это есть в деле и даже заснято.
— 123 человека — это те, которые конкретно нажимали на курок?
— Я считаю, что меньше. Может, некоторые только по документам влезли туда, ради наград, вообще администрации лагерей, где содержались будущие жертвы, заранее не знали о готовящейся полякам участи. Это точно, если бы знали, могла бы произойти утечка, так что в курсе, видимо, были только особисты.
— Когда вы проводили следствие, нашли ответ на такой вопрос: люди, которые сопровождали в поездах, в машинах, кто вёл машины к этим уже конкретным местам, Козьим горам, Медному и т. д., те, кто встречал их на станциях разгрузки, эти люди понимали, что они делают, или нет?
— Я так понимаю, они настолько были в этой жестокости уверены, что это так надо для страны и партии, что не задумывались и действовали строго по инструкции, но понимать, что на убийство ведут, должны были.
— То есть народ, который уничтожил в ходе гражданской войны большой процент своего собственного народа, чужие народы вообще в расчёт уже не брал. Можно ли этих людей в меньшей степени, чем тех 123, считать преступниками? Сколько таких людей было, по вашему мнению, хотя бы примерно?
— Не знаю, не хочу судить.
— Хорошо, но существует современная инструкция, сколько конвоиров положено на сколько заключённых в сегодняшнее время, скажем, на пять конвоируемых один конвойный, такие нормативы существуют? Соответственно, имея 22 500, мы можем рассчитать количество людей, которые не охраняли их в лагерях, а тех, кто был задействован именно в этом окончательном решении вопроса.
— Мы можем прикинуть, но можем и ошибиться. Любое количество может быть. Это карательный аппарат, он настолько был карательный, что хотя люди понимали, что делали, но молчали, боялись. Я не хочу быть голословным, не знаю. Неважно, сколько их было, негодяй, он негодяй и есть. Конечно, может и один человек с пулеметом расстреливать. Но там и штыками кололи. Я сейчас уже фамилии не помню, мужчины, из Смоленска. Мы нашли дочку одного из них, ей мать рассказывала. Отец в 1948 году повёз их на то место, всю семью свою, лёг и плакал: «что я наделал, что я наделал» Пришло какое-то озарение или отрезвление к нему. «Тут моими руками столько натворено». Дочка потом показания давала, а этот мужчина в списке не значился. Взять Катынь, там тоже пришлось разбираться, кто там, немцы или не немцы, украинцы, белорусы, русские, кто?
— В Белоруссии таких деревень, как Хатынь не один десяток, полностью повторивших страшную судьбу. Почему как мемориальное место, как символ, была выбрана именно деревня с таким очень похожим названием, случайно или нет?
— Этот вопрос и не нужно задавать. Всё продумано было. И наш народ, я не говорю, что все, а которые невежественные, слова «Катынь» и «Хатынь» путали и путают.
— Каково отношение тех, кто раскрывал это дело в 1990-х годах, к тем, кто работал в так называемой комиссии Бурденко в 1944 году.
— Бедные люди. Нельзя сказать — непрофессионалы, там, наверное, были и профессионалы, нищие волей и духом люди. Почему я так позволяю себе говорить? Ведь из этого госпиталя им. Бурденко — сейчас там есть центральная судебно-медицинская лаборатория — специалисты были приглашены и в нашу группу. Например, полковник медицинской службы Лев Валерьевич Пиляев с нами участвовал везде. Он сказал: «Я, как никто другой, убеждён в том, что мы делаем правое дело». Я не раскрываю никаких секретов, в деле всё видно. Когда допрашивали тех, которых допрашивали в 1944 году, было видно, что люди обработанные, но им некуда было деться. Даже чистым людям в этой человеконенавистнической машине путь был запрограммирован. Кто даже хотел поступать по-божески, сразу превращался в пыль.
— Что нам сегодня делать, чтобы этого никогда не повторилось, по крайне мере, в нашей стране, на её территории? Как искупить вину перед пострадавшими и погибшими? Что делать с теми, кто повинен?
— Молиться за них. Как говорил Иисус, «молитесь за врагов своих». Про меня тоже чего только ни говорят. Некто Мухин, известный своими человеконенавистническими книгами и ксенофобскими и великодержавными измышлениями и подтасовкой фактов истории, «обвинял», что Третецкий «ударился в Бога», что устраивал оргии на местах раскопок захоронений. Как можно так писать? Время расставит всё на свои места. Кому и что воздастся, все всё получат. Господь образумит всех неразумных, Господь направит. Когда ты имеешь мысли светлые, прекрасные помыслы и, главное, дела, то и болезни от тебя отступают. Когда ты свет не только в себе концентрируешь, а несёшь людям, несёшь всему, что в нём нуждается, то и вокруг тебя становится и светлее, и теплее.
Я не только много об этом думал. Когда видел людей, путающих «Х» и «К», «Хатынь» и «Катынь», то старался объяснить, открыть глаза, советовал узнать все факты о трагических событиях середины ХХ века, прежде, чем делать выводы и что — то утверждать. Часто говорят, они такие-сякие, ненавистные, а я отвечаю, давайте начнём с себя, решим свою проблему.
Предвидели мы возможность такого развития и, понимая это, ещё в начале расследования нашей следственной группой предлагали руководителям и вышестоящим политическим лидерам: давайте, чтобы всё было равноправно, мы расследуем Катынское дело с участием польских специалистов и всё делаем открыто, а потом, тоже вместе, дело 1921 года. Кстати, польская сторона давно передала документы, которые у нас многих так волнуют, т.е. всё касательно трагедии советских военнопленных в 1921 году. Хотелось, чтобы всё было благородно и паритетно, но этого ведь не произошло. Наше руководство не проявило инициативы, люди были никому не нужны. Зато теперь книга вышла, «Красноармейцы в польском плену», и чуть что, сразу идут домыслы и о количестве, и о причинах смерти. Так что это типичный пример, когда незнание фактов и законов позволяет уйти от ответственности или перекладывать её на других.
— Последний и, к сожалению, совсем не лёгкий вопрос. Судьба, Бог подарили Александру Третецкому очень длинный и сложный путь. Даже из тех вопросов, которых мы коснулись за эти пару часов, многим бы и одного на жизнь хватило. Здесь вся, как минимум, история второй половины ХХ века со всеми её страшными трагедиями. А частично даже и те ситуации, которые происходили в первой половине ХХ века, как, например, Катынская трагедия. Пройдя через всё это, обретя Бога, обретя понятие веры, что бы хотел Александр Третецкий изменить в этой жизни? И маленький подвопрос, хотя, возможно, он самый важный. Не жалеет ли он, как об этом жалеют некоторые люди в нашей стране, что не было у нас своего Нюрнберга? Причём это вопрос не человеку, это вопрос, безусловно, прокурору.
— За все те злодеяния, которые имели место, и над собственным народом, и тем более над народами других стран, всегда должен быть ответ. Сейчас, конечно, время ушло далеко. Но, есть высший суд, Божественный суд. Не нужно создавать «Нюрнберги», нужно создать и провести «Нюрнберг» в себе, в каждом человеке. Расширить своё сознание так, чтобы не было никаких условий для подобных деяний, действий и бездействий, чтобы никогда не появилось вновь что-либо подобное.
Сегодняшнее интервью помогло мне вспомнить очень многое. Как будто всё снова прошло рядом. Был такой маленький эпизод в Медном, когда солдат Кантемировской дивизии, прикомандированных к нам для помощи в раскопках и эксгумации, хотели у нас забрать, но мы не дали. Нам поставили такие строгие временные рамки, что время у нас было очень ограничено. Приходилось работать с рассвета до заката. Мы обязательно должны были всё успеть. Когда эти молодые ребята, новобранцы, сразу попадали в такую ситуацию, они, естественно, терялись. Ещё бы, взрослым мужикам, встречавшимся со смертью, плохо становилось, но мы смогли им объяснить, что это нужно. Несмотря на лесные, полевые условия жизни, жару, мошкару, физическую и моральную усталость, — а некоторые даже падали в обморок, на глазах ослабевали, ведь в яме там же страшно, — работа продолжалась. Мы с доктором, профессором Радзиевским, спускались туда и работали сами. Помню, как у доктора разорвались резиновые перчатки и брызнуло в лицо, но он вытерся и продолжил страшную работу. Этот эпизод сыграл огромнейшую роль. Солдаты уже падали от усталости, но увидели, что командир, как и они, работает, и продолжили с утроенной силой. Ведь нужно было каждое тело вытащить, внимательно осмотреть, проверить документы или что-то другое, важное, что могло сохраниться в карманах, в руках, быть зашитым в одежде, попытаться идентифицировать, и тут же сообщить, что найден такой-то. Это моменты, которые не опишешь никакими словами. Менять ничего не хочу. Господь всё дал. Это твоя дорога — иди, другой нет. Не ной и не стони. Да, бывало тяжело. Да, можно было сидеть, перекладывать бумажки за ту же зарплату. Можно жить без всяких волнений, без проблем. Но, раз ты направлен в этот мир, в Храм человеческий, то береги его и всех, кто рядом. В Афганистане, в Медном, в Катыни — мы берегли друг друга. Нужно беречь друг друга и ценить тех, кто тебя бережёт.
Р.S.: Когда на аэродроме 10 апреля произошла трагедия… Утром смотрю — туман, мне есть не хочется, ничего в рот не лезет, так тяжело. Казалось бы, встречаем Президента, будут награждать, а было тяжело. Нина, моя супруга, сказала: «Сядь и молись». Сел, замёрз, один знакомый, с кем в Таджикистане вместе служили, рядом оказался, говорит: «Идите, там чайку, кофейку попейте в палатках». Они в отдалении стоят, и их плохо было видно из-за тумана. Пошли, и через две минуты подходят и сообщают: «Сказали самолёт разбился» Я понял — это предчувствие было. Сейчас можно что хочешь говорить.
Такой ценой у нас возможно сближение и многие люди наконец-то поняли, какая это боль!
Самое главное — любовь к человеку, любовь к себе, любовь друг к другу. Если это будет, другого быть не сможет — будет жизнь!
Москва. 17 мая 2010 года
С Александром Третецким — генерал-майором юстиции, заслуженным юристом Российской Федерации, доцентом права, бывшим старшим прокурором Генеральной и Военной Прокуратуры Российской Федерации беседовал Григорий Амнуэль.